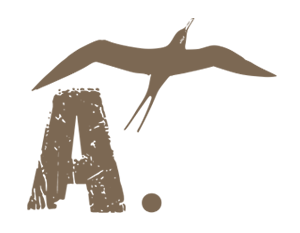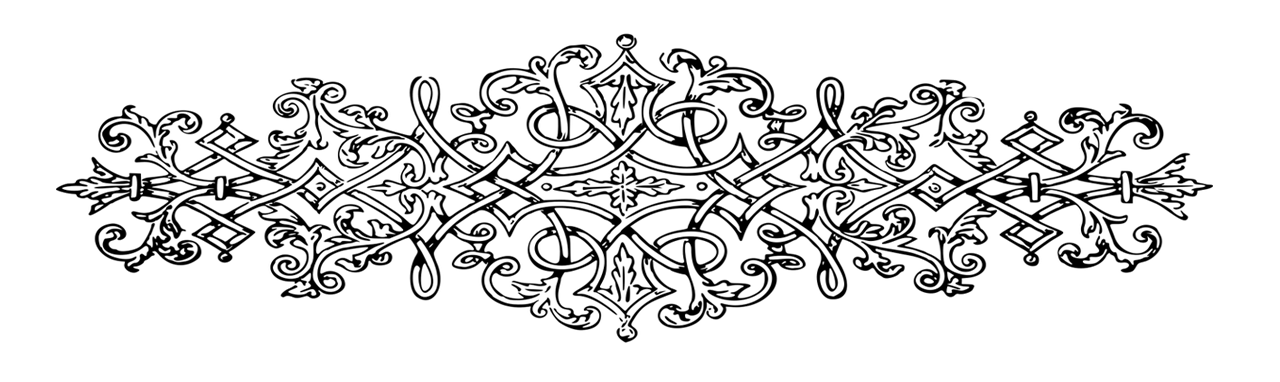КУЛИНАРИЯ НА ВЫЖИВАНИЕ
Жил-был один мужик. Звали его Иваном. Но как-то заметил этот самый Иван, что его добрая жена Мария вроде наплевательски стала относиться к готовке еды.
Не то что бы еда стала пресной и не пригодной для пищи, но почти во всех блюдах попадалась одна особенность: нечто твёрдое – камешек, косточка или кусочек железяки, которое непременно ломало, крошило мужнины зубы.
— Ты что из мяса кости не убираешь? – волновался муж, ощупывая кромки повреждённых резцов.
— Убираю, — удивлялась жёнушка. – Одна вот тебе попалась, так теперь придираешься.
— Не придираюсь. На прошлой неделе я ел салат и об гвоздь поранился.
— Об гвоздь??? Да не может быть…
Так и жили. Муж начал постепенно с ума сходить. Сидя над едой, он терпеливо прощупывал её своими пальцами-следопытами, но обычно мало что находил. И не найдя, по обыкновению, с первой же отправленной в рот ложкой натыкался на нечто твёрдое, острое, режущее, убивающее всё живое, кромсающее плоть бессмысленно и беспощадно.
«Ах, она извести меня хочет! — дошло как-то до Ивана. – Наверное, любовника завела. Думают, поранюсь я, от кровотечения сдохну, а всё моё нажитое нечеловеческим трудом им достанется».
Устроил наблюдение за женой…
Прошло много бесполезного времени, а мужик никаких следов любовника так и не обнаружил. К тому времени он лишился почти всех своих зубов, потому что продолжал натыкаться на железки в пище. Интересно, что у жены Марии с зубами проблем не было.
Какой можно здесь сделать вывод? Женщины более аккуратны по жизни, они лучше следят за собой, чаще моются, тщательно выщипывают волосы меж бровей и поэтому дольше живут.